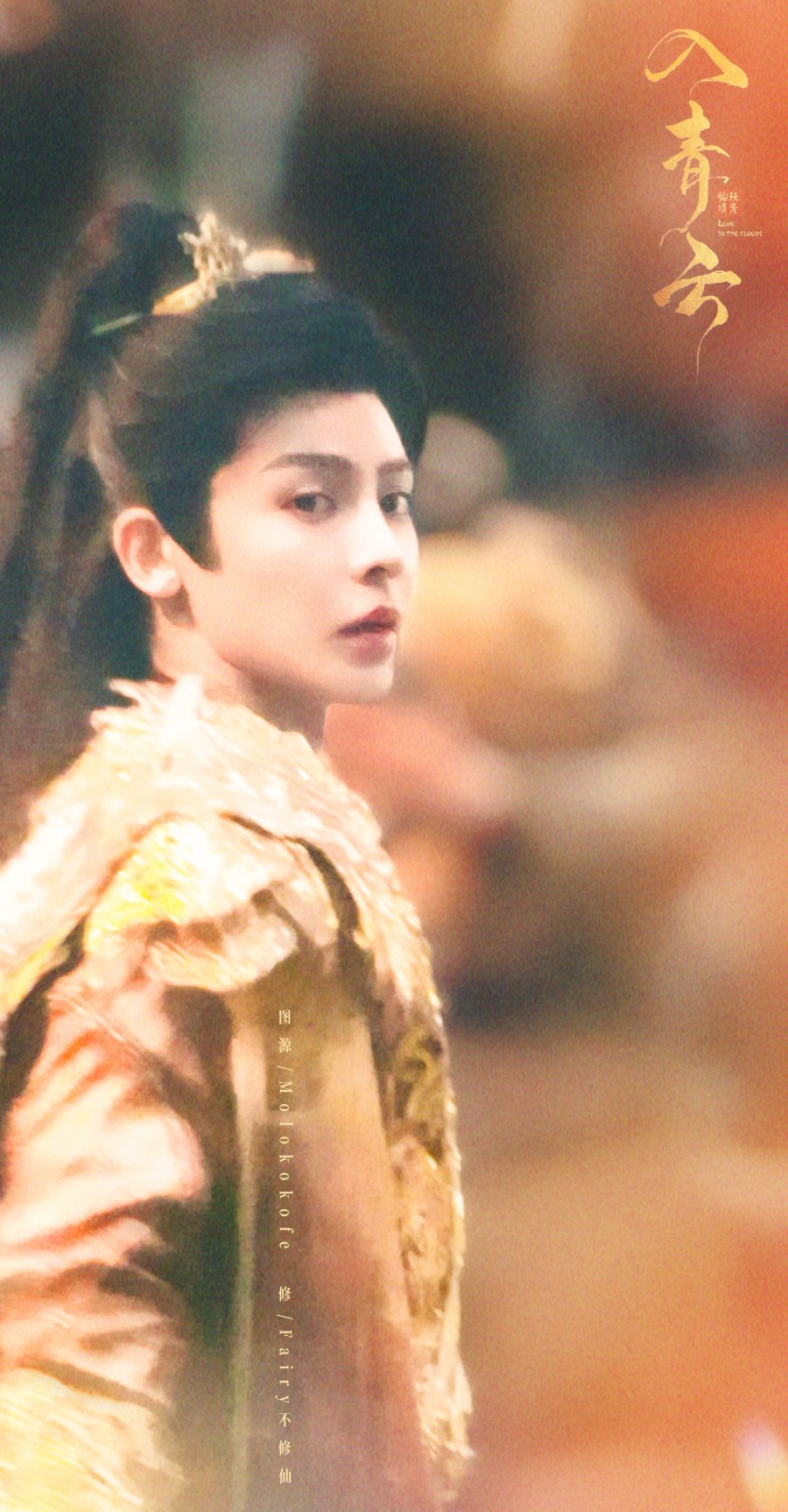— Благодарю, госпожа да сы, благодарю от всей души! — министр Управления чинов с поклонами снова и снова благодарил Мин И, утирая рукавом капли пота, выступившие на лбу. В его глазах — облегчение, будто он только что выбрался из западни, где уже ощущал дыхание собственной гибели.
Среди тех, кого повелел наказать Владыка, большинство были его родичами. Если копнуть глубже — и сам он оказался бы замешан. А потому получить прощение или хотя бы послабление было для него наилучшим исходом.
Невдалеке стояло ещё несколько старших сановников. До сих пор они наблюдали издали, взвешивая происходящее и оценивая выражения лиц. Убедившись, что Мин И вовсе не высокомерна и ведёт себя сдержанно и разумно, один за другим они решились приблизиться, с поклонами встав у дороги.
— Госпожа да сы, Его Величество желает подвергнуть того убийцу карой расчленения… Слишком уж жестокое наказание. Такое зверство, боюсь, дурно отразится на репутации. Не согласитесь ли уговорить Владыку смягчить приговор?
Мин И покачала головой:
— Репутацией Его Величество не тяготится. Я тоже не стану мешаться. Считайте, это — назидание остальным.
Один из сановников тут же сменил тему:
— Что касается стражи, патрулировавшей улицы… Их ведь тоже наказали? Всем сразу — три месяца лишения жалованья. Не слишком ли сурово?
Мин И ответила спокойно, но твёрдо:
— Долгое лишение жалованья может породить недовольство. Лучше заменить его телесным наказанием. Каждому — по десять ударов. Боль пройдёт, но урок останется.
Чиновники один за другим закивали. Пусть им и не нравилось, как легко она обошлась с вопросом о репутации Владыки — слишком уж равнодушно она к этому отнеслась, — но теперь они ясно поняли: Мин И — не та, кого можно уговорить или склонить льстивыми словами. У неё был свой взгляд на вещи, своя воля — и далеко не каждый довод мог её поколебать.
Так и повелось впоследствии: только когда Цзи Боцзай заходил слишком далеко в своей властности, сановники обращались к ней — не с мольбой, но с осторожным напоминанием.
Прошло совсем немного времени — и прозвучал удар гонга, возвещая начало утренней аудиенции.
Цзи Боцзай предстал перед собравшимися сановниками с лёгкой, почти беззаботной улыбкой и, немедля ни мгновения, вознёс к высоким постам целый ряд молодых и дерзких чиновников, ранее не блиставших ни званием, ни выслугой.
Зал тотчас наполнился шёпотом, охами и гулкими возгласами. Одни недовольно роптали, мол, те ещё молоды и недостаточно испытаны, другие же, напротив, расценили это как признак просвещённого правления.
И как раз в тот миг, когда споры достигли наивысшего накала, Цзи Боцзай повелел ввести девушек — тех самых, вокруг которых совсем недавно бушевали дебаты.
Они вошли в зал в строгом официальном облачении — ничем не отличаясь от мужчин-чиновников. Не ожидая ни одобрения, ни снисхождения, каждая из них поклонилась Владыке, а затем чётко и последовательно доложила: кто за что отвечает, какие дела уже завершены, какие готовятся к исполнению.
Сановники замерли, ошеломлённые. Это были не просто «женщины при дворе» — это были настоящие, подготовленные служащие, и их речь звучала убедительно.
Следом, во главе с Сун Ланьчжи, три вдовы — женщины, потерявшие мужей, но не силу духа — выступили с обвинением против пятерых чиновников, погрязших в коррупции и виновных в гибели невинных. Доказательства были представлены чёткие, неоспоримые.
Цзи Боцзай не стал медлить — пятерых тут же велено было увести из зала и заключить под стражу. Девушкам же, проявившим решимость и дерзновение, были пожалованы новые чины.
Теперь, когда все убедились в деловых способностях молодых чиновников, былой ропот на их назначение мгновенно стих. Но едва умолкли споры о юных мужчинах, как новый гул поднялся уже по другому поводу — женщины во дворце, да ещё и во властных чинах! Да ещё вдовы! Это что ж теперь — зал власти стал комнатой для вдовьих жалоб?
Старые сановники пришли в ужас. Особенно взбешёнными выглядели те, кто считал себя стражами древнего порядка. Один из старейших чиновников — седобородый, с лицом, покрытым сетью морщин, — с гневом сорвал с головы шапку чиновника, бросил её на пол и закричал, словно собирался на смерть:
— Если это не безумие — то что тогда?! Я умру, но стану смертельно уговаривать Владыку! Пусть прольётся кровь ради справедливости!
Но не успел его голос разлететься по залу, как Цзи Боцзай, всё это время, сидевший на высоком троне, лениво поднял ладонь. Простое, почти небрежное движение — и седой старик, будто подхваченный невидимой силой, взмыл в воздух и с глухим грохотом рухнул обратно на каменные плиты.
Глухо. Тяжело. Безжалостно.
Он не погиб. Но кости его не выдержали удара — нога сломалась, и вопль боли пронёсся по залу:
— Спасите! А-а-а!..
Крик раскатился по дворцу, отразился от сводов, как эхо грозы, сотрясая тишину.
И этим поступком Цзи Боцзай ясно дал понять всем присутствующим — он, Цзи Боцзай, не из тех, кто склоняет голову перед мольбами. Он не выносит препирательств. Он — не советующийся правитель, он — тиран.
Так, одним жестом, он как будто объявил всему миру:
«Да, я — деспот. И пусть боятся те, кто не умеет молчать».
И вот тогда, внезапно, весь зал погрузился в гнетущую тишину. Ни шёпота, ни движения. Только тяжёлое дыхание, и…. тень, медленно опустившаяся на сердца всех собравшихся.
— Обязанность сановника, — раздался в гробовой тишине мягкий, почти ленивый голос Цзи Боцзая, — служить Владыке, облегчать его бремя, а не взбираться ему на голову и самозабвенно плясать там, диктуя, как жить.
Он говорил неспешно, но каждое слово било, словно камень, брошенный о гранит.
— Если бы Поднебесная держалась лишь на ваших речах, я бы, может, и поклонился вам. Но шесть городов — я отвоевал их сам, один за другим. Никто из вас не протянул мне руку. А теперь вы все, из разных земель, навязались мне во двор, умоляя взять вас на службу, будто без вас мир развалится. Так вот, запомните: я вам ничего не должен. И уж точно не вы станете учить меня, как быть императором.
Каждая фраза ложилась в зал, как камень в воду — тяжело, гулко, не вызывая ни малейшего отклика. Лишь безмолвие — плотное, настороженное, почти физически ощущаемое.
— Да, — продолжил он, взгляд его стал холодным и прямым. — Я постановляю: и мужчины, и женщины могут сдавать экзамены, поступать в Юаньшиюань и становиться чиновниками. И если юный слуга справляется с делом лучше старика — он достоин высшего поста. Я сам решаю, кого вознести. Мне не нужны ваши рекомендации. У меня есть глаза, есть уши. Я вижу. Я слышу.
Он наклонился вперёд, голос его сделался тише — но в этой тишине чувствовалась такая мощь, что казалось, даже каменные колонны замерли.
— Я не возлагаю тяжких налогов. Я не давлю народ. Но если хоть один из вас посмеет не соответствовать тому месту, что ему даровано, — неважно, чьим вы являетесь племянником, чья у вас печать или титул, — сегодня вы сидите в высоком зале, а завтра окажетесь на коленях, прикованные к цепи. Не согласны? Тогда поднимите меч. И отберите у меня жизнь.