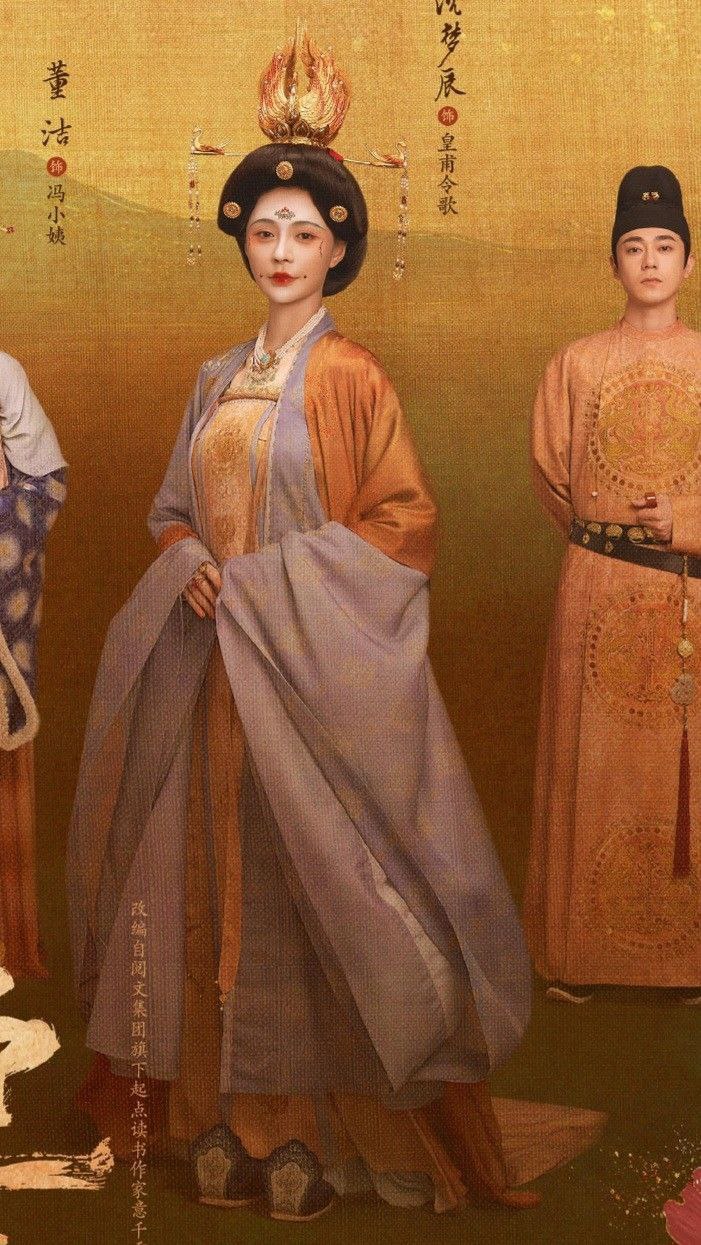Госпожа Бай кивнула, признавая её силу:
— Знаю, ты — не из тех, кем можно помыкать. Ты — человек с характером, и решение своё, видно, уже приняла. Правду сказать, я сперва, и сама не хотела соваться. Но увы — вчера Сися явился ко мне в слезах, умолял поговорить с господином наследником. Говорил, что Лю Цзышу из-за тебя был жестоко бит отцом, сановником Лю, и теперь сидит под замком. Господин наследник с Лю Цзышу с детства друзья, что бы между вами ни было — он не мог остаться в стороне. И ради него, в конце концов, я и пришла. Прошу тебя, если можешь — не держи на меня зла за моё вмешательство.
Мудань не изменилась в лице. Она кивнула, голос её был ясен и ровен:
— Я понимаю.
Но в сердце её сквозила холодная насмешка. Лю Чан, Сися, сановник Лю …
Все они знали, как подбирать слова. Придумали, будто он ради неё пострадал? Сыграли красивую партию: теперь и избит, и якобы в заключении, и якобы кается…
А потом что? Вернуть её — чтобы заново начать? Сначала приласкать, потом оклеветать? Терпеливо втоптать в грязь, пока не выжмет всю силу — и когда она не сможет ни ответить, ни защититься, торжественно выставить за дверь? Так, чтобы отомстить ей — по-настоящему, в полную силу?
Она усмехнулась про себя.
Нет уж… второй раз в ту же клетку — я не вернусь.
Госпожа Бай вдруг улыбнулась — уже по-другому, тепло, почти по-девичьи:
— Ну всё, — сказала она. — То, что ты сейчас слышала, говорила с тобой жена Пань Жуна.
А теперь с тобой говорит Бай Синь.
Она чуть наклонилась вперёд, голос стал тише, но в нём зазвучала настоящая искренность:
— Слава, богатство — всё это дым. Ветром пришло, ветром уйдёт. А мы, женщины… Если уж судьба дала нам шанс сохранить себя, отстоять своё имя, свою честь — и не попытаться… вот тогда мы действительно глупы. У тебя есть родные, что по-настоящему любят тебя. Это уже благословение, которое нужно беречь. Ты — с такой красотой, с таким сердцем… Тебя нельзя было так унижать. Никак нельзя. И даже если бы Лю Цзышу не просил, я всё равно пришла бы. Просто чтобы знать: ты жива и держишься.
Мудань впервые за всю беседу улыбнулась по-настоящему. Не ради приличия, не из вежливости — а оттого, что её тронули.
Вот она — настоящая женская доброта, не нарядная, не показная. Тёплая и твёрдая, как весенний камень под солнечным светом.
Госпожа Бай чуть помолчала, потом, уже более деловито, спросила о подробностях её разрыва с семьёй Лю. Когда услышала, что Лю Чэнцай всё валит на Мудань, Лю Чан отказывается писать отречение, лицо её на мгновение омрачилось.
Задумавшись, она тихо сказала:
— Так оставлять нельзя. Если всё будет тянуться — это затянет тебя, как трясина.
Вот что… На Праздник Драконьих лодок Дуаньу, я пришлю за тобой людей. Если судьба будет благосклонна — и ты встретишь одну очень особенную даму… Обратись к ней с просьбой.
Если она согласится тебе помочь — тогда дело точно будет улажено.
Неужели всё может так просто сложиться? — Мудань на миг замерла, поражённая открывающейся возможностью. Она медленно подняла взгляд:
— Разве… это хорошо? — тихо проговорила она, с сомнением в голосе. — А если господин наследник рассердится на вас? Что тогда? Не стоит… прошу вас, не беспокойтесь обо мне. Я… я просто подожду.
Рано или поздно, кто-нибудь из них не выдержит первым.
В её тоне была забота — и настороженность. Мудань прекрасно знала, что чувства между супругами Пань Жун и госпожой Бай далеки от гармонии. И если из-за неё, чужой женщины, госпожа Бай вдруг окажется втянутой в конфликт с мужем, — не станет ли всё только хуже?
Но Бай Синь засмеялась, легко, чуть с дерзостью:
— Видно, ты добрая и думаешь обо всём… но всё равно многого не знаешь. У Лю Цзышу нрав — не подарок. А ещё — есть она. И если у неё хоть что-то пойдёт не по её воле, если она почувствует, что теряет контроль, — всю злость она выльет на тебя. Так что, чем раньше всё закончится, тем лучше. Освободишься — и всё.
Она немного наклонилась вперёд, голос её стал уверенным, почти заговорщицким:
— Не беспокойся. Я всё устрою. Главное — молчи. Если ты никому не скажешь, откуда пришло приглашение — кто сможет обвинить меня? Даже если хоу догадается — ну и что? Я не испугаюсь.
Мудань промолчала, не давая согласия, но и не отказываясь.
Бай Синь прищурилась, усмехнулась и спросила мягко:
— Ну что же… что тебя всё ещё тревожит?
Мудань долго молчала. Слова госпожи Бай были как зов — щедрый, ясный, обещающий поддержку. Но именно в этой щедрости что-то её настораживало. Наконец, она подняла взгляд, в котором читалась не вежливость, а серьёзность, почти прямолинейная искренность:
— Благодарю вас… за вашу доброту и намерения, — тихо сказала она. — По всем правилам я должна быть глубоко признательна. Но… наше знакомство всё-таки недолгое. И простите меня за прямоту — я не могу не задать себе вопрос: почему вы так безоговорочно хотите мне помочь?
Она выпрямилась, не отводя взгляда:
— В мире нет беспричинной доброты, так же, как и нет беспричинной вражды. Если бы речь шла лишь о паре добрых слов — я бы с лёгкостью приняла. Но сейчас — это помощь, которая может встать вам дорого. Даже повлиять на ваши отношения в семье. Это уже не просто вежливость. Это… участие. Я не хочу думать о людях плохо, но всё же… лучше понимать суть, чем потом сожалеть.
Госпожа Бай сначала опешила — не от слов, а от неожиданной трезвости этой девушки, которую другие, быть может, всё ещё считали “мягкой” и “покорной”.
А затем рассмеялась. Легко, немного устало, и с оттенком иронии — не над собеседницей, а над самой собой:
— Вот уж действительно… Стоит мне впервые по своей воле захотеть помочь кому-то — как в ответ получаю подозрение.
Она покачала головой с почти невидимой грустью.
Мудань ощутила, как в щеки приливает жар — лицо пылало. Но, несмотря на смущение, она не отступила. В её голосе звучала сдержанная решимость, спокойная и простая, как утренняя роса на лепестках.
— Вы ведь знаете… я — всего лишь обыкновенная женщина. Без защиты отца, без плеча братьев — разве смогла бы я устоять перед тем, что на меня обрушилось? Не то что кому-то помочь… себя бы уберечь.
Она подняла глаза, и в них была не растерянность, а осознанный страх — страх перед тем, что нельзя удержать или вернуть.
— Я не хочу понапрасну принимать такую великую милость. Если из-за меня вы понесёте хоть малейший урон, если вдруг из-за меня между вами и вашим господином встанет холод… а я — не смогу ничего. Только смотреть. Как же я тогда расплачусь? Чем отплачу за это чувство?
Её голос дрогнул, но не сломался. В нём была честность, не от обиды — от уважения. Она слишком хорошо понимала цену чужой доброты и слишком рано узнала, как больно быть в долгу, который невозможно вернуть.
Госпожа Бай помолчала, глядя на неё внимательно, с каким-то новым, глубоким пониманием. Затем, слегка наклонившись вперёд, она заговорила тихо, но твёрдо — в голосе её звучала чистая правда, без оправданий и притворства:
— Ты слишком много на себя берёшь, — сказала она. — Думаешь, я помогаю тебе ради чего-то?